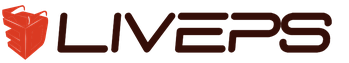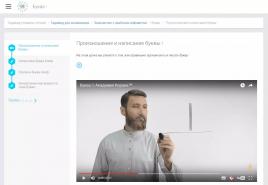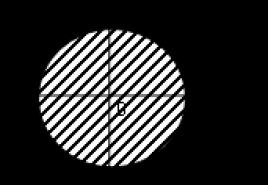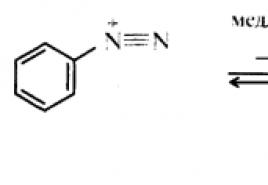Улитин, павел павлович. Непрозрачные смыслы: «Дорога» Павла Улитина
Павел Павлович Улитин (1918, ст. Мигулинская, Ростовская обл. - 1986, Москва) - русский писатель.
Родился на Дону, в станице Мигулинской в семье землемера, убитого красными бандитами в 1921 г. Мать - врач, выпускница Высших женских курсов в Петербурге. После окончания школы поступил в московский Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). Вместе с друзьями создал антисталинскую коммунистиче
скую группу, был арестован в 1938 г., но освобожден шестнадцать месяцев спустя «по комиссии», то есть по состоянию здоровья. После увечий, полученных на допросах, на всю жизнь остался хромым.
В 1940 г. вернулся на Дон. По окончанию войны переехал в Подмосковье и поступил в экстернат Московского г
осударственного педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ). В 1951 г. попытался пройти в посольство США, был арестован и помещен в Ленинградскую тюремную психиатрическую больницу (ЛТПБ), где содержался до 1954 г. Жил на Дону, затем в Москве. В 1957 г. окончил заочное отделение МГПИИЯ. Раб
отал продавцом в книжном магазине, давал уроки английского языка. Умер в Москве в 1986 году.
Писать П.Улитин начал с юности, но ранние его сочинения не сохранились (известно, что при аресте в 1951 г. у него изъяли рукопись романа и черновики еще двух; проза, написанная в конце 1950-х гг. была изъ
ята во время обыска в 1962 г.). Улитин, опираясь на открытия Джеймса Джойса, выработал собственный тип письма, в котором «скрытый сюжет» (определение Улитина) образуется переплетением потока сознания, авторских воспоминаний, цитат (в том числе иноязычных), обрывков диалогов и монологов необозначенны
х персонажей. В СССР произведения П.Улитина распространялись в самиздате, а с 1976 г., усилиями Зиновия Зиника, изредка появлялись в эмигрантской периодике. В России первые публикации состоялись в 1990-х гг.; в 2000-х гг. вышло три книги, подготовленных к печати Иваном Ахметьевым. Значительная часть
Библиография
Бессмертие в кармане // Синтаксис. - 1992. - № 32.
Фотография пулеметчика // Вестник новой литературы. - 1993. - № 5.
Поплавок // Знамя. - 1996. - № 11.
Ворота Кавказа // Митин журнал. - 2002. - № 60.
Разговор о рыбе. - М.: ОГИ, 2002. - 208
Теперь, из некоторой дали, эхо вполне самостоятельных, казалось бы, шагов в моей жизни слышится мне как цитата из жизни Улитина. Например, решительные шаги в неизвестном направлении – через границу, за рубеж. Эти шаги были очень заметны, но не слышны: это были следы на снегу. Ноги в сказочном снегу утопали, когда я передвигался с тяжелым чемоданом январским утром 1975 года в направлении голландского посольства в Москве. Я не вижу своего лица, потому что вижу себя со стороны, нет – со спины, глазами провожающего, глазами Нины Петровой. Она шла сзади на тот случай, если меня задержат «органы» и надо будет оповестить об этом иностранных корреспондентов. Сквозь снег меня было видно плохо. Человек-невидимка, обозначенный в реальности лишь внешними атрибутами: пальто, шапка, чемодан. И следы на снегу.
В чемодане был мой личный архив, все то, что накопилось за десятилетие – или около того – интенсивных разговоров и переписки в кругу моих московских друзей. Знатоки политической ситуации в Москве тех лет дали мне знать, что через голландское посольство можно этот архив переправить дипломатической почтой в Тель-Авив, если выдавать эти бумаги за материалы, необходимые для продолжения научной деятельности в Израиле. (Голландцы благородно взяли на себя в те годы роль дипломатического посредника между Россией и Израилем, поскольку эти отношения были формально разорваны.) Никто толком не знал, что подразумевается под «научной деятельностью» и возьмут они этот архив или не возьмут: мне предстояло в этом убедить атташе посольства. В той степени, в какой позволит мой неполноценный английский. Я видел, как топчутся передо мной на снегу двое в штатском у здания посольства – они наблюдали за всеми входящими и выходящими. У входа стоял милиционер. Все это напоминало шпионскую историю, где каждый страдает манией преследования.
Мне было страшно, что меня остановят и отберут чемодан. Страшно не только потому, что у меня отберут мое московское прошлое, отправив меня в новую жизнь на Западе нагишом, так сказать. Содержимое чемодана действительно было уникально: тут были открытки в виде коллажей, эпистолярная каллиграфия, самодельные книги-подборки, просто почтовые письма, личные документы, тексты и фотографии. Тут были и тысячи страниц моей прозы. По стилю эта проза была подражательной, но эта была пародийная стенограмма разговоров с моими друзьями и учителями жизни в московской интеллектуальной сутолоке чуть ли не с 1962 года. Чего только не почерпнули бы из этих страниц органы безопасности, если бы чемодан попал им в руки.
С другой стороны, они фактически не выудили бы оттуда ничего нового. Все открытки и письма из чемодана так или иначе прошли черный кабинет главпочтамта (экзотический дизайн и, скажем, неординарный шрифт в адресе на конверте этих почтовых отправлений домашнего изготовления не могли не привлечь внимания цензора). Даже в томах-подборках авангардной прозы не было, практически, ни одной страницы не отправленной в том или ином виде по почте. В этом и состоял «открытый» эпистолярный принцип общения в моей Москве тех лет. Мы посылали друг другу «открытые письма», открытки: мол, хочешь? читай! – все равно ничего не поймешь!
(Таким образом пародировалась сама идея цензуры как акта, противоречащего самой бесцензурной природе человеческого мышления. Предупреждение «Еще раз напишешь – убью!» рукой дворника на стене, измаранной дворовым хулиганьем, – это все равно что «Не читайте чужую переписку!» на почтовой открытке. Это запрет на действие, чье запрещение включает акт, подлежащий запрету. Запрет на слова выражается в словах и тем самым аннулирует сам запрет. Отстаивание правды патологическим лжецом теряет всякий смысл как автоматически лживое действие.)
Но одно дело – индивидуальная шифровка, другое – коллекция этих документов, собранных вместе. Невидимые, хотя и открытые каждому глазу, отдельные странички вместе обретали телесность кругового общения. Вместе все это представляло собой цельную картину некоего московского круга, с именами, адресами и телефонами; а для органов нет ничего более важного (во время допросов по делу, так и во время регулярной слежки), как выстраивание связей, наведение мостов, «рисование кругов» на мутной воде интеллектуального общения. Они – заядлые сочинители романов. Мое незаконное прошлое было аккуратно упаковано в старый чемодан, как готовый сюжет. Попробуем его открыть.
«Первый удар самый страшный. Но он же и освобождает». Так начинался устный рассказ Улитина про попытку визита в американское посольство, в последние параноидальные годы сталинского режима, перед кончиной вождя; то есть за четверть века до моего «подражательного» визита с чемоданом рукописей в голландское посольство. Этот свой шаг – прорыв в посольство с рукописями – он в разговоре со мной назвал «бзиком», почти психиатрическим умственным сдвигом. Им руководила вера в то, что он сможет шагнуть за границу – за границу самого себя и своей советской жизни, в родную иностранную речь. Его мать, сельский врач в запорожской станице, учила Павла с детства французскому и немецкому, а после войны он отшлифовал английский в педагогическом институте иностранных языков в Москве.
Его остановил при входе в посольство милиционер из будки. Улитин обратился к нему по-английски, высказав свое желание встретиться с послом. Улитин изображал из себя англичанина, свободно изъясняющегося по-французски и читающего по-немецки. Это и был бзик. Вид у него был довольно безумный: его рукописями была набита обыкновенная авоська, а сверху лежали коньки (их просила передать соседям Улитина по квартире какая-то случайно встреченная родственница). Вид коньков в авоське был вдвойне нелеп, поскольку Улитин передвигался с палочкой: у него были перебиты сухожилия после первого ареста до войны, когда он, студент второго курса ИФЛИ, послал антисоветскую записку лектору по марксизму-ленинизму. Не отсюда ли всякое упоминание коньков в его текстах такое комическое и одновременно с оттенком угрозы? (На коньках с энтузиазмом катался и сокурсник Улитина по ИФЛИ, будущий глава КГБ, «Шурик» Шелепин.)
Знание немецкого в свое время избавило его от ареста совсем иного рода – спасло ему жизнь. Произошло это в доме родителей, в родной станице, куда он вернулся после первого ареста уже инвалидом, с переломанными ребрами и перебитыми сухожилиями. В станицу вошли немцы. Когда один из офицеров распахнул дверь улитинского дома, тот лежал в постели, с «Фаустом» Гете в руках. Но в углу стояли костыли. Немцы могли спокойно принять его за раненого советского солдата. Его могли расстрелять на месте. Улитин приподнялся с кровати и отчитал вошедшего офицера за то, что тот вошел без стука, на таком изощренном языке Гете и Шиллера, что тот, совершенно ошарашенный, вежливо ретировался.
Однако милиционеру на воротах американского посольства это знание иностранных языков почему-то не очень понравилось. Он набрал особый номер по вертушке. Из соседнего с «Националем» подъезда, где в ту эпоху размещалось местное подразделение ГБ, за Улитиным явились два жирных мальчика. И тем не менее, магия владения иностранным языком сработала. Даже когда его привели в отделение, анкету предложили заполнить на иностранном языке. Улитин делал вид, что не понимает по-русски. Заполнил анкету по-английски. Затем его посадили в черную машину и повезли на Лубянку. Парни-гебисты увлеченно обсуждали успешный арест важного агента иностранной разведки. Прозвучала фраза: «Жирного карася поймали!» Тут Улитин не смог удержаться от улыбки. Эту улыбку тут же заметили. Эта улыбка означала многое. Она означала, что человек понимает по-русски. А иностранцем просто притворяется. Тут Улитина и избили. Прямо в машине. С тех пор два мотива – понимающая улыбка и ужение (ловля) рыбы – обрели в его прозе мифологическое значение. Как только у него в тексте упоминается сочинение Аксакова «Руководство по ужению рыбы», имеется в виду та самая роковая поездка в направлении Лубянки.
Павел Павлович Улитин
Макаров чешет затылок
«Макаров чешет затылок» – второе произведение Павла Улитина, выходящее полностью и отдельной книгой. Первое («Разговор о рыбе») было опубликовано два года назад в издательстве О.Г.И. Две эти книги – лишь малая часть литературного наследия писателя, умершего в 1986 году в возрасте без малого шестидесяти восьми лет.
Ту книгу, что сейчас перед вами, Павел Павлович Улитин написал в 1966–1967 годах и начал ее фразой: «Уходя из мира, не забудьте хлопнуть дверью, а то никто не заметит». Но двадцать лет спустя он собственному совету не последовал, и его уход заметили немногие.
Хотелось бы теперь, еще через восемнадцать лет, составить подобие памятки для читателя, впервые открывшего книгу прозаика Павла Улитина. По некоторым признакам можно понять, что такой читатель уже есть – или вот-вот появится. Кажется, пришло его время. С запозданием на полвека, но это как водится.
Мы не знаем, когда Улитин начал писать «свою», особенную прозу. Среди рукописей, изъятых у него в 1952 году, значатся черновики двух романов и рукопись третьего – «Возвышенная организация». Уже в этом названии ощущается скрещивание значений, характерное для зрелой прозы Улитина: цитата из «Бесов», но еще и эвфемизм, обозначающий другую организацию, не столь возвышенную (она-то и изъяла эти рукописи). А среди его записей можно обнаружить и такую: «Листочки в кармане в 43 году ничем не отличались от страниц, написанных в 34-м».
Думаю, отличались все же. В 1934 году Улитину было шестнадцать лет, он жил на Дону в станице Мигулинская. В сорок третьем он жил там же, но лет ему было больше, и это был уже другой человек. Кое-что произошло за эти годы. В 1938 году студент второго курса ИФЛИ П.П. Улитин был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, а выпущен оттуда через шестнадцать месяцев «по комиссии», – то есть живым, но не вполне и на заведомо недолгий срок. Улитину, однако, удалось этот срок продлить и потом (1951–1954) пережить еще одно заключение по политической статье.
Но читатель, настроенный на встречу с мемуарами «жертвы режима», действительно может воспринять текст этих книг как «рыбу» в издательском, полиграфическом значении слова. Как уход от прямого, «серьезного» разговора. (И будет, я думаю, в чем-то прав. Есть вещи, о которых так прямо не скажешь. О них Улитин и пишет). Связный рассказ «о пережитом», подробности и имена есть только в «Хабаровском резиденте»: табуированном (при жизни) тексте Улитина, написанном от третьего лица. По другим книгам рассыпаны эпизоды или отдельные фразы, тюремное происхождение которых понятно лишь читателю со стажем. Никаких датированных воспоминаний, никакой «автобиографии». Так что же это – повесть, рассыпанная на детали, куски? Едва ли. Если собрать и последовательно изложить, не будет никакой повести, – то есть никакой прозы.
Читать Улитина не так просто как раз потому, что его слово – совсем простое. И очень легкое. «Я хочу найти слова, которые не имеют прибавочной стоимости». Он освободил свое письмо от постороннего счета и лишнего веса. Хотя бы от принудительного уважения к каторжной биографии или блеска (всегда немного суетного) писательской техники. Его письмо ничем не гарантировано, это литература без гарантий . В ней осуществляется тот «способ свободы», который людям сегодняшнего дня понятней и почему-то ближе, чем сверстникам писателя.
Видимо, Улитин писал всегда. Даже когда ничего не записывал. Литературой была длившаяся двое суток речь, о которой рассказал нам его сосед по камере-палате. Или общение с людьми, иногда почти случайными, подсевшими к его столику в кафе «Артистическое» (это уже начало шестидесятых). Место было интересное, кое-кто из случайных знакомцев переходил в разряд постоянных, поминаемых в текстах Улитина и через два десятка лет (Юло Соостер, например).
Но проза Улитина ни в коем случае не записанный монолог, и устное слово – сырой материал для дальнейшей работы. Секрет в том, что «на выходе» будет слово, по многим признакам совпадающее с устным, речевым. Но таким, которое редко услышишь: полным внутренней значительности и странного напряжения.
Чтобы так зазвучать, фраза должна быть выделена и проявлена. Тогда самые простые слова наполняются голосом и повисают в воздухе, как будто они сказаны только что, прямо сейчас. Проникают в твое сознание по другим каналам – как заклинания что ли?
Я начал читать Улитина больше тридцати лет назад и должен сознаться, что первая книга мне давалась с трудом. Я не сразу понял, как ее надо читать. Нет, неверно: я не сразу понял, что ее не надо читать . Ее нужно слушать. Как ритм, как стихи. (Похоже, Улитин и поэт Ян Сатуновский пришли с разных сторон к одному открытию: к ритму, проявленному в речевой интонации). Интонация настолько точная и захватывающая, что чувствуешь и – в конечном счете – понимаешь, что это, о чем. Не все понятно, но все ясно. Этот текст говорит с тобой или рядом с тобой, мимо тебя, но всегда учитывает твое, слушателя, присутствие. Он затягивает. И вот уже тридцать лет я читаю, перечитываю тексты Улитина, в которых как будто ничего нет, никакой информации.
В них есть тон, звук. Они – и только они – открывают тебе доступ к другому сознанию, к чужому опыту. Опыту человека, который был изломан, но не сломлен.
И отстоял себя – свой ироничный и трезвый ум, способность соединять желчь с весельем, страдание с любопытством. Я могу почувствовать его, Улитина, отношение к жизни (и к смерти). Не что он об этом думал, а каким тоном говорил.
И еще я не сразу понял, что текст Улитина это во многом «чужая речь»: мозаика чьих-то слов, перемешанных и выстроенных заново по другим законам. На страницах его книг нет персонажей, но есть множество действующих лиц. Каждый произносит свою речь или свою реплику на тех же основаниях, что и сам автор.
«Я с вами. Я с вами. Я с вами. Вы, которых никто не помнит, я с вами». Конечно, Улитин ищет свое слово. Но он лишен той наивности, когда любое слово заведомо считается своим. Он ищет свое слово среди чужих. Свое среди чужого. Цитата, скрытая или явная, дает возможность избежать необязательного повторения, но при этом еще и переиграть, переосмыслить ситуацию. Цитирование здесь не прием, а способ мышления и – что самое существенное – способ выживания.
Мне кажется, что тексты Улитина – реализованная возможность даже не «другой прозы», а другого письма , то есть иного способа записи, фиксации. Фиксации мысли? Вероятно. В первую очередь. «Написанная фраза уводит мысль. Она уводит ее своими словами. На самом деле все не так: словами никто не думает, самое интересное это как раз то, о чем человек думает не словами. Ход мысли на бумаге это еще что-то третье. Ход мысли на бумаге слишком зависит от бумаги. Без бумаги мысль течет по другим законам. Но вот на бумаге появляется слово „мысль“, и ход мысли шарахается в сторону, как испуганная лошадь». Улитин фиксирует мысль, еще не ставшую речью, или речь, не перешедшую в литературу: окрашенную в природные цвета; движущуюся с естественной скоростью, – рывками, порывами, толчками. Передает на бумаге окраску голоса, его интонацию. Движение мысли, движение речи, наполненные эхом звучащие паузы, завораживающие длинноты – все это, должно быть, и есть проза Павла Улитина.
Михаил Айзенберг
Макаров чешет затылок
Мороз157 стр.
УХОДЯ ИЗ МИРА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ, А ТО НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ.
Написать такое слово физически собственной рукой доставляло удовольствие. А то бы еще какая сила заставила. Теперь не то. Не мучил бы я вас, как это было раньше.
Зло, но похоже на правду. Слишком правильно, чтобы быть хорошим. Слишком верная, чтобы быть доброй.
Культ черновика, но до такой степени? Игра – как всякая игра, а главное – почти безвредно.
Я с ним настолько в дружбе, что могу ему писать доносы на своих товарищей. Определение дружбы в стиле члена КПСС с 1951 года. Есть отдельные недостатки. Например, отца расстреляли. Еще пример, евреев на работу не принимают за картавое произношение. А в общем все хорошо с точки зрения сталиниста, который на самом деле – хунвэйбин.
Этого достаточно.
15 тетрадей
Вдруг в конце января внезапно подули сильные холодные студеные суровые китайские ветры, и оттепель отошла на задний план. Хотя опасности надо ждать не весной и не зимой, а только летом. Куда исчез генерал Монти со своим пророчеством?
Слоны долготерпенья стояли на конверте. Козлы отпущенья бежали прочь.
Домового похоронили, а вот ведьму до сих пор не выдали замуж. И это все читать должны России верные сыны. Мы этот день рождения игнорируем.
В станице Мигулинской в семье землемера, убитого белыми в г. Мать - врач, выпускница Высших женских курсов в Петербурге . После окончания школы поступил в московский (ИФЛИ). Вместе с друзьями создал антисталинскую коммунистическую группу, был арестован в г., но освобождён шестнадцать месяцев спустя «по комиссии», то есть по состоянию здоровья. После увечий, полученных на допросах, на всю жизнь остался хромым.
В г. вернулся на Дон. По окончании войны переехал в Подмосковье и поступил в экстернат (МГПИИЯ). В г. попытался пройти в посольство США , был арестован и помещён в Ленинградскую тюремную психиатрическую больницу (ЛТПБ), где содержался до г. Жил на Дону, затем в Москве. В г. окончил заочное отделение МГПИИЯ. Работал продавцом в книжном магазине, давал уроки английского языка. Умер в Москве в 1986 году.
Творчество
Писать П. Улитин начал с юности, но ранние его сочинения не сохранились (известно, что при аресте в 1951 г. у него изъяли рукопись романа и черновики ещё двух; проза, написанная в конце 1950-х годов , была изъята во время обыска в г.). Улитин, опираясь на открытия Джеймса Джойса , выработал собственный тип письма, в котором «скрытый сюжет» (определение Улитина) образуется переплетением потока сознания , авторских воспоминаний, цитат (в том числе иноязычных), обрывков диалогов и монологов необозначенных персонажей. В СССР произведения П.Улитина распространялись в самиздате , а с г., усилиями Зиновия Зиника , изредка появлялись в эмигрантской периодике (журналы Время и мы , Синтаксис ). В России первые публикации состоялись в 1990-х гг.; в 2000-е годы вышло три книги, подготовленных к печати Иваном Ахметьевым . Значительная часть наследия П. Улитина не опубликована.
Библиография
Об Улитине
- «В прозе Улитина можно уловить отзвук „телеграфного стиля“, яркой новации времен его молодости. Но телеграмма адресована самому себе, а её ритм звучит примерно так: было-помню-точно помню-точно было… А дальше знаки препинания, сомнения, припоминания» -
» посвящен публикуемому впервые прозаическому произведению, написанному в 1963 году представителем неподцензурной литературы Павлом Улитиным.
Павел Павлович Улитин. 1960-е годы
Павел Улитин
К наследию Павла Павловича Улитина (1918–1986) – писателя, представителя неподцензурной культуры 1960-х годов, создавшего новый подход к письму, не имеющий предшествующих аналогов, стали обращаться достаточно поздно: первая публикация появилась в 1976 году в США, в России – в 1991 году, затем в 2002, 2004 и 2006 годах вышли три книги , подготовленные близким дружеским окружением автора. Начиная с 1940-х годов, Улитин последовательно создавал свою форму прозаического высказывания, подписывая произведения псевдонимами с элементами номиналистской игры (псевдоним Устен (или Устин) Малапагин, под которым написан ряд книг, отсылает к названию фильма «У стен Малапаги, или По ту сторону решетки» режиссера Рене Клемана 1948 года; Юл Айтн, под которым написан ряд ранних текстов, создан путем написания фамилии «Улитин» латинскими литерами «Ul + Itin»), называя собственноручно переплетаемые машинописные листы «книгами-уклейками». После второго ареста и пребывания в Ленинградской тюремной психиатрической лечебнице, техника работы Улитина по изготовлению книг приобрела свою уникальную форму: автор работал на двух печатных машинках, советской и английской, используя разницу между ними в 1,5 интервала у второй, привнося в само материальное пространство текста изменения, вклеивая редкие фотографии из зарубежной прессы, вписывая фрагменты карандашом, а также поворачивая сам лист во время печати на машинке и меняя расположение текста.
Из недавних исследований произведений Улитина важно отметить обширную главу в исследовании филолога, критика Ильи Кукулина, в частности указание на технику «постутопического» монтажа как структурообразующую для текстов Улитина, а также расширение смысла за счет его разрыва и «письмо травмы», проблематика которого заняла одно из центральных мест в построении «автобиографической» прозы писателя. Что касается травмы, необходимо вернуться к важной биографической вехе в жизни автора – обыскам и арестам, которым Улитин подвергался в течение своей жизни: во время учебы в ИФЛИ (Институте философии, литературы и искусства) был арестован в 1938 г. как участник марксистского кружка, затем освобожден по болезни в 1940 году, повторно арестован в 1951 г. (при попытке проникнуть в посольство США), провел 3 года в Ленинградской тюремно-психиатрической больнице. После обыска 1951 года у писателя были конфискованы рукописи ранних текстов, а в 1962 году, после обысков КГБ, проведенных в Минске у философа-диссидента, переписывавшего ранний роман Улитина «Анти-Асаркан» Кима Хадеева (1929–2001) и его последующего ареста, также был произведен обыск и у Павла Павловича, протокол которого сохранился: было изъято множество машинописных рукописей, блокнотов, а также личных вещей писателя.
Публикуемый впервые текст «Дорога», сохранившийся в архивах писателя в форме шестой печатной копии, по большей вероятности написан по следам последнего обыска в 1963 году, что продолжает проблематику травматического опыта, одновременно запечатленного и рассеянного на письме. Техника письма сразу же отсылает к уже оформившейся на то время повествовательной машине: разрывы в повествовании, апелляция к индийской культуре (в начале текста Улитин отсылает к opus magnum индийского ученого и философа Малланаги Ватсьяяны, что делает его предшественником поэтов Поэтической функции и практик письма позднего Аркадия Драгомощенко), а также темпоральные прерывания повествования в режиме целой страницы-пропуска («ваше время истекло» (стр.9), что предшествует концептуалистским опытам в лице Андрея Монастырского и подчеркивает диалектику травмы в течение всего повествования, попытку одновременного их преодоления), отсылки к уже упоминавшейся выше киноленте («человек, который помнит стоны Малапаги»), проскриптуму и древнеримскому диктатору Сулле , характеризующим уже не только развитие Улитиным темы «Воображаемого Запада», прописанное петербургским критиком Алексеем Конаковым, но также и выработку пространства-пересечения с античным Римом, отсылающим к тоталитарной машине и узнаваемому ее проявлению в советских реалиях.
В процессе чтения «Дороги» становится видимой одна из возможных центральных составляющих текста – проблематика spinner - telling , вворачивающая в себя обрывки устной речи-объекта, находящейся в воздухе, в самом зазоре между субъектом высказывания, автором и окружающей действительностью, которая подмечается в мельчайших подробностях от фразы, услышанной вскользь, до внутреннего диалога-аллюзии на отдельное место в художественном произведении того, или иного писателя зарубежной литературы. Понятие набравшей в последнее время популярность «крутящейся игрушки» здесь как нельзя кстати: постоянно ускользающая повествовательная машинерия Павла Улитина с его задачей «После прочтения уничтожить» (так расшифровывал свои инициалы П.П.У. сам писатель) в результате встроенной логики вращения (а одной из коннотаций слова spinner как раз является рассказчик ) работает подобно воронке, одновременно превращающей пространство тоталитарного устройства шестидесятых в доступное и универсальное поле, становящееся предтечей сетевой литературы с ее дигитализацией как единообразующим началом.
Ян Выговский

Дорога, титульный лист, шестая машинописная копия автора (после титула в печатной копии идет дополнительная страница с посвящением от автора)
Умберто Эко, изучая взаимоотношения читателя и текста, выделил две категории последних: открытые и закрытые. При этом он отметил, что открытыми для читателя являются не сработанные по заданным заранее формулам тексты популярной культуры, а, наоборот, продукты герметичного письма, дающие читателю простор для интерпретации. Подобный подход кажется наиболее приемлемым при чтении работ Улитина. Пожалуй, один из самых «темных» писателей 20 века, «русский Джойс», как его называл один из его близких знакомых, Александр Асаркан, выстраивал свои тексты если не как центоны, то на принципе тотальной цитатности в эпоху, когда представление об интертекстуальности еще только начало складываться (термин был введен Юлией Кристевой только в 1967 года, хотя она опиралась на более ранние идеи М.М.Бахтина). Соединяя в своем методе «уклейки», монтажном распределении на белом листе вырезок-цитат и написанных от руки или на печатной машинке текстов, Улитин создавал герметичные тексты, сложные для прочтения не только из-за интертекстуальной глубины, но и также в силу синтаксического строения, ломаного движения «сюжета» и визуальных особенностей. Поэтому предлагаемый здесь взгляд на текст Улитина «Дорога» не претендует дать хоть сколько-нибудь профессиональную интерпретацию и является продуктом «рецептивного диалога».
Конструирование подобных коллажей можно с некоторой долей уверенности объяснить с точки зрения «теории травмы» - как следствие нежелания высказываться собственным языком, обнажаясь перед угнетающими институтами. Это своеобразный метод ускользания, но, так или иначе, желание выразиться чужим языком, предпочтение истории ее рассказу – стало для Улитина эстетической доминантой. По мысли Зиновия Зинника, «сама по себе история не важна. Важно кто ее рассказывает. Сам выбор рассказа, определенного сюжета, манера пересказа говорит больше о человеке, чем сюжетные перипетии…» . Слияние голосов в одном тексте, их перекличка в общем ансамбле облекает их в новые качества, а отбрасываемые ими тени интертекстуальности придают улитинской прозе карнавальный характер: почти сакральная глубина отсылок окрашивается иронией их смешения с кухонными разговорами и языковыми играми.
«Дорога» Улитина сразу же отсылает к важному в русской литературе топосу пути. Так как начальная и конечная его точки по ходу чтения остаются неизвестными – есть возможность предположить, что это дорога вечного скитальца, персонажа романтического. Так, в тексте неоднократно упоминаются пассажи из «Евгения Онегина», созданного, с одной стороны, под влиянием романтизма (Байрона), а с другой стороны, как и улитинский текст обладающего игровой природой вечных отступлений, с «рассказом важнее историй». Но не стоит представлять существование в «Дороге» Улитина близкого Онегину «лишнего человека» - предполагаемый персонаж демонстрирует не романтическую отверженность и исключительность, а ощущаемую в современном мире погруженность в пространства потоков. Само повествование в «Дороге» представлено как номадическое движение, в котором неизвестны и неважны герои представляемых речей, не понятно и не важно, где вне речи имеют место быть сама дорога, ветер, шумящий листвой, мокрый асфальт, пух от тополя, синий троллейбус (возведенный Б.Окуджавой в ранг неоромантических символов-спутников) и другое. Онегин появляется в романе героем-странником и в последней главе отправляется в путешествие, а в улитинской «Дороге» важна сама дорога, тянущая вместе с собой поток дискурсов, в которой рассуждения о Пастернаке и индусском искусстве любви (парадоксальна ссылка на автора «Камасутры», молчальника Ватсаяну – «так говорил Ватсаяна») перемежаются с цитатами и упоминаниями советских комиков Виктора Ардова, Тарапуньки и Штепселя («если вобла продается, трудно воблу ту купить), свежими новостями (выборы нового папы римского) и личными воспоминаниями и рассуждениями. Так карнавал сбивчивых голосов проявляется в визуальной организации текста с руинированной нумерацией и оглавлением. В этом осуществляется замысел улитинской «антикниги» - предпочтение неструктурированной, многомерной записной книжки задающему формат «закрытого чтения» книги. Становится важной не история, а «пересказ»: «оказывается, это и есть язык».
Номадический текст оставляет за собой шлейф значений, в то время как природа остается индикатором времени и вечного движения: «Ветер шумит листвой, а за бортом остаются чужие слова чужих языков из чужих книг и чужих литератур».
Степан Кузнецов