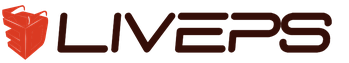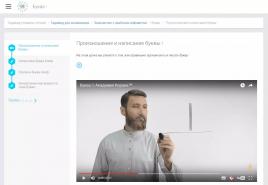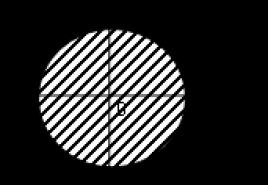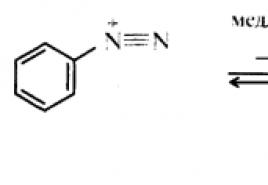Крестьянская поэзия 20 века годов. Новокрестьянские поэты
родился в 1887 году в деревне Коштуге близ Вытегры (Олонецкая губерния). Отец его семнадцать лет прослужил в солдатах, доживал жизнь сидельцем в казенной винной лавке, мать из старообрядческой семьи - вопленица, былинница. Сам Клюев окончил церковно-приходскую школу, затем народное училище в Вытегре. Год проучился в фельдшерах. Шестнадцати лет ушел в Соловецкий монастырь «спасаться», некоторое время жил в скитах. В 1906 году за распространение прокламаций Крестьянского союза был арестован. От службы в армии отказался по религиозным убеждениям. Позже писал «Впервые я сидел в остроге 18 годов отроду, безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой. Начальство почитало меня опасным и «тайным». Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы. Плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мое гложет... Когда пришел черед в солдаты идти, везли меня в Питер, почитай 400 верст, от партии рекрутской особо, под строжайшим конвоем. В Сен-Михеле, городок такой есть в Финляндии, сдали меня в пехотную роту. Сам же про себя я порешил не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала. Стал я отказываться от пищи, не одевался и не раздевался сам, силой меня взводные одевали; не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои под микитку, взглезь, по мордасам, по поджилкам прикладом молчал. Только ночью плакал на голых досках нар, так как постель у меня была в наказание отобрана. Сидел я в Сен-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазеях петровских времен. Люто вспоминать про эту мерзлую каменную дыру, где вошь неусыпающая и дух гробный... Бедный я человек! Никто меня и не пожалеет... Сидел я и в Выборгской крепости. Крепость построена из дикого камня, столетиями ее век мерить. Одиннадцать месяцев в этом гранитном колодце я лязгал кандалами на руках и ногах... Сидел я и в Харьковской каторжной тюрьме, и в Даньковском остроге. Кусок хлеба и писательская слава даром мне не достались!.. Бедный я человек!..»Начав сочинять стихи, Клюев несколько лет переписывался с Александром Блоком, поддержавшим его поэтические начинания. Первый сборник стихов «Сосен перезвон» вышел осенью 1911 года с предисловием В. Брюсова. В том же году вышла вторая книга «Братские песни». «Осенний гусак полнозвучнее Глинки, стерляжьи молоки Верлена нежней, а бабкина пряжа, печные тропинки лучистее славы и неба светлей...»
«Коренастый, - вспоминала Клюева жена писателя Н.Г. Гарина. - Ниже среднего роста. Бесцветный. С лицом ничего не выражающим, я бы сказала, даже тупым. С длинной, назад зачесанной прилизанной шевелюрой, речью медленной и бесконечно переплетаемой буквой «о», с явным и сильным ударением на букве этой, и резко отчеканиваемой буквой «г», что и придавало всей его речи специфический и оригинальный и отпечаток, и оттенок. Зимой - в стареньком полушубке, меховой потертой шапке, несмазанных сапогах, летом - в несменяемом, также сильно потертом армячке и таких же несмазанных сапогах. Но все четыре времени года, так же неизменно, сам он - весь обросший и заросший, как дремучий его Олонецкий лес...»
Несколько иначе запомнил Клюева поэт Г. Иванов «Приехав в Петроград, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести. «Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге» - «Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, - много ли нам надо Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу». - Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике. «Маракую малость по басурманскому, - заметил он мой удивленный взгляд. - Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да что ж это я, - взволновался он, - дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь Чаю не пью, не курю, пряника медового не припас. А то, - он подмигнул, - если не торопишься, пополудничаем вместе Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут». - Я не торопился. - «Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно, - сейчас обряжусь». - «Зачем же вам переодеваться» - «Что ты, что ты - разве можно Ребята засмеют. Обожди минутку - я духом». - Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке «Ну вот, так-то лучше». - «Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят». - «В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно».
Осенью 1917 года Клюев вернулся в Вытегру.
Обладая крепким природным умом, внимательно присматривался к людям, к событиям, даже вступил в члены РКП(б). В 1919 году в журнале «Знамя труда» появилось стихотворение Клюева о Ленине - первое, кажется, в советской поэзии художественное изображение вождя. Впрочем, коммунизм, Коммуну, как он сам говорил, Клюев воспринимал вовсе не так, как другие члены партии. «Не хочу Коммуны без лежанки...». - писал он. Древнерусская книжность, пышная богослужебная обрядность, народный фольклор удивительным образом мешались в его стихах с сиюминутными событиями. В первые послереволюционные годы он много пишет, часто издается. В 1919 году вышел в свет большой двухтомный «Песнослов», за ним - сборник стихов «Медный кит». В 1920 году - «Песнь Солнценосца», «Избяные песни». В 1922 году - «Львиный хлеб». В 1923 году - поэмы «Четвертый Рим» и «Мать-суббота». «Маяковскому грезится гудок над Зимним, - писал Клюев, - а мне - журавлиный перелет и кот на лежанке. Песнетворцу ль радеть о кранах подъемных..»
«В 1919 году Клюев становится одним из основных сотрудников местной газеты «Звезда Вытегры», - писал исследователь его творчества К. Азадовский. - Он постоянно печатает в ней свои стихи и прозаические произведения. Но уже в 1920 году его участие в делах газеты сокращается. Дело в том, что в марте 1920 года Третья уездная конференция РКП(б) в Вытегре обсуждала вопрос о возможности дальнейшего пребывания Клюева в рядах партии религиозные убеждения поэта, посещение им церкви и почитание икон вызывали, естественно, недовольство у вытегорских коммунистов. Выступая перед собравшимися, Клюев произнес речь «Лицо коммуниста». «С присущей ему образностью и силой, - сообщала через несколько дней «Звезда Вытегры», - оратор выявил цельный благородный тип идеального коммунара, в котором воплощаются все лучшие заветы гуманности и общечеловечности». В то же время Клюев пытался доказать собранию, что «нельзя надсмехаться над религиозными чувствованиями, ибо слишком много точек соприкосновения в учении коммуны с народною верою в торжество лучших начал человеческой души». Доклад Клюева был выслушан «в жуткой тишине» и произвел глубокое впечатление. Большинством голосов конференция, «пораженная доводами Клюева, ослепительным красным светом, брызжущим из каждого слова поэта, братски высказалась за ценность поэта для партии». Однако Петрозаводский губком не поддержал решение уездной конференции Клюев был исключен из партии большевиков...» Больше того, в середине 1923 года поэт был арестован и препровожден в Петроград. Арест, правда, не оказался долгим, но, освободившись, Клюев возвращаться в Вытегру не стал. Являясь членом Всероссийского союза поэтов, возобновил старые знакомства, целиком отдался литературной работе. Писал много, но и многое изменилось в стране теперь стихи Клюева откровенно раздражали. Преувеличенное тяготение к жизни патриархальной вызывало отпор, непонимание, поэта обвиняли в пропаганде кулацкой жизни. Это при том, что как раз в те годы Клюев создал, может быть, лучшие свои вещи - «Плач о Есенине» и поэмы «Погорельщина» и «Деревня».
«Я люблю цыганские кочевья, свет костра и ржанье жеребят. Под луной как призраки деревья и ночной железный листопад... Я люблю кладбищенской сторожки нежилой, пугающий уют, дальний звон и с крестиками ложки, в чьей резьбе заклятия живут... Зорькой тишь, гармонику в потемки, дым овина, в росах коноплю. Подивятся дальние потомки моему безбрежному «люблю»... Что до них Улыбчивые очи ловят сказки теми и лучей. Я люблю остожья, грай сорочий, близь и дали, рощу и ручей...»
Для жизни в суровой стране, с ног на голову перевернутой революцией, этой любви было уже мало.
«На запрос о самокритике моих последних произведений и о моем общественном поведении довожу до сведения Союза следующее, - писал Клюев в январе 1932 года в Правление Всероссийского Союза советских писателей. - Последним моим стихотворением является поэма «Деревня». Напечатана она в одном из виднейших журналов республики («Звезда») и, прошедшая сквозь чрезвычайно строгий разбор нескольких редакций, подала повод обвинить меня в реакционной проповеди и кулацких настроениях. Говорить об этом можно без конца, но я, признаваясь, что в данном произведении есть хорошо рассчитанная мною как художником туманность и преотдаленность образов, необходимых для порождения в читателе множества сопоставлений и предположений, чистосердечно заверяю, что поэма «Деревня», не гремя победоносною медью, до последней глубины пронизана болью свирелей, рыдающих в русском красном ветре, в извечном вопле к солнцу наших нив и чернолесий. Свирели и жалкованья «Деревни» сгущены мною сознательно и родились из причин, о которых я буду говорить ниже, и из уверенности, что не только сплошное «ура» может убеждать врагов трудового народа в его правде и праве, но и признание им своих величайших жертв и язв неисчислимых, претерпеваемых за спасение мирового тела трудящегося человечества от власти желтого дьявола - капитала. Так доблестный воин не стыдится своих ран и пробоин на щите - его орлиные очи сквозь кровь и желчь видят «на Дону вишневые хаты, по Сибири лодки из кедра»...
Неуместная повышенность тона стихов «Деревни» станет понятной, если Правление Союза примет во внимание следующее с опухшими ногами, буквально обливаясь слезами, я, в день создания злополучной поэмы, впервые в жизни вышел на улицу с протянутой рукой за милостыней. Стараясь не попадаться на глаза своим бесчисленным знакомым писателям, знаменитым артистам, художникам и ученым, на задворках Ситного рынка, смягчая свою боль образами потерянного избяного рая, сложил я свою «Деревню». Мое тогдашнее бытие голодной собаки определило и соответствующее сознание. В настоящее время я тяжко болен, целыми месяцами не выхожу из своего угла, и мое общественное поведение, если под ним подразумевать неучастие в собраниях, публичные выступления и т.п., объясняется моим тяжелым болезненным состоянием, внезапными обмороками и часто жестокой зависимостью от чужой тарелки супа и куска хлеба. Я дошел до последней степени отчаяния и знаю, что погружаюсь на дно Ситных рынков и страшного мира ночлежек, но то не мое общественное поведение, а только болезнь и нищета. Прилагаемый документ от Бюро медицинской экспертизы при сем прилагаю и усердно прошу Союз (не стараясь кого-либо разжалобить) не лишать меня последней радости умереть в единении со своими товарищами по искусству членом Всероссийского Союза Советских писателей...»
Не самую лучшую роль сыграл в судьбе Клюева поэт Павел Васильев, свояк главного редактора «Известий» - известного коммуниста И.М. Гронского. Слова его о некоторых подробностях личной жизни Клюева настолько возмутили Гронского, что он в тот же день позвонил наркому внутренних дел Генриху Ягоде с категорическим требованием в двадцать четыре часа убрать «юродивого» из Москвы. «Он (Ягода) меня спросил «Арестовать» - «Нет, просто выслать». После этого я информировал И.В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал...» 2 февраля 1934 года Клюев был арестован. Суд приговорил его к пятилетней высылке в Сибирь.
«Я в поселке Колпашево в Нарыме, - писал Клюев давнему своему другу певице Н.Ф. Христофоровой. - Это бугор глины, усеянный почерневшими от непогод и бедствий избами. Косое подслеповатое солнце, дырявые вечные тучи, вечный ветер и внезапно налетающие с тысячеверстных окружных болот дожди. Мутная торфяная река Обь с низкими ржавыми берегами, тысячелетия затопленными. Население - 80% ссыльных - китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны - все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев - давным-давно стал обглоданной костью. Вот он - знаменитый Нарым! - думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных темных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашел первые нарымские цветы - какие-то сизоватые и густо-желтые, - бросился к ним с рыданьем, прижал их к своим глазам, к сердцу, как единственных близких и не жестоких. Но безмерно сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдания и смерти человеческой здесь никого не трогают. Все это - дело бытовое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть..»
Но даже в таких условиях Клюев пытался работать записывал отдельные строфы, запоминал их, потом записи уничтожал. К сожалению, большая поэма «Нарым», над которой он тогда, по некоторым свидетельствам, работал, до нас не дошла.
«Небо в лохмотьях, косые дожди, немолчный ветер - это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый. У меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя бумазейная рубаха без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное все украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днем и ночью прибывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и желтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен...»
Какое-то время Клюев еще боролся за себя. Писал в Москву в Политический Красный Крест, к Горькому, в Оргкомитет Союза советских писателей, старым, еще остававшимся на свободе друзьям, поэту Сергею Клычкову. Какое-то из обращений, видимо, сработало в конце 1934 года Клюеву разрешили отбывать оставшийся ему срок в Томске. При этом отправили в Томск не этапом, а спецконвоем; в казенной телеграмме, полученной из Новосибирска, так и указывалось - доставить в Томск поэта Клюева.
«На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в Томск, - писал Клюев, - это на тысячу верст ближе к Москве. Такой переход нужно принять как милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и куска хлеба. Уныло со своим узлом побрел я по неизмеримо пыльным улицам Томска. Кой-где присаживался на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок; промокший до костей, голодный и холодный, я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города - в надежде попросить ночлег ради Христа. К моему удивлению, меня встретил средних лет, бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой, человек - приветствием «Провиденье посылает нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно устали». При этих словах человек стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принес теплые валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег...»
Однако жизнь в Томске оказалась немногим легче колпашевской. «В Томске глубокая зима, - писал поэт, - мороз под 40 градусов. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньгами - от двух до трех рублей - в продолжение почти целого дня - от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю все хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного сена, если оно попадет в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало, сахар великая редкость. Впереди морозы до 60 градусов, мне страшно умереть на улице. Ах, если бы в тепле у печки!.. Где мое сердце, где мои песни..»
В 1936 году, уже в Томске, Клюева вновь арестовали по спровоцированному органами НКВД делу контрреволюционного, церковного (как сказано в документах) «Союза спасения России». На какое-то время его освободили из-под стражи только из-за болезни - «паралича левой половины тела и старческого слабоумия». Но и это была лишь временная отсрочка.
«Хочется поговорить с милыми друзьями, - в отчаянии писал поэт Христофоровой, - послушать подлинной музыки! За досчатой заборкой от моей каморки - день и ночь идет современная симфония - пьянка... Драка, проклятия, - рев бабий и ребячий, и все это перекрывает доблестное радио... Я, бедный, все терплю. Второго февраля стукнет три года моей непригодности в члены нового общества! Горе мне, волку ненасытному!..»
Дурные предчувствия скоро сбылись. На совещании руководящих работников Западно-Сибирского края тогдашний начальник Управления НКВД С.Н. Миронов, говоря об уже спланированных и разрабатываемых чекистами процессах, совершенно определенно потребовал «Клюева надо тащить по линии монархически-фашистского типа, а не правых троцкистов, выйти через эту контрреволюционную организацию на организацию союзного типа». Сказано было с масштабом, с указанием на важность проводимой работы.
«Совещание руководящих работников, - писал профессор Л.Ф. Пичурин («Последние дни Николая Клюева», Томск, 1995), - проходило 25 марта 1937 года. А уже в мае Клюева вновь взяли под стражу. Разумеется, допросы «подельников» очень скоро дали полное подтверждение всем домыслам следователей. Например, арестованный Голов показал «Идейными вдохновителями и руководителями организации являются поэт Клюев и бывшая княгиня Волконская... Клюев - человек набожный, за царя. Сейчас пишет стихи и большую поэму о зверствах и тирании большевиков. Имеет обширнейшие связи и много единомышленников...» Через несколько дней тот же Голов добавил к сказанному «Клюев и Волконская являются большими авторитетами среди монархических элементов в России и даже за границей... В лице Клюева мы приобрели большого идейного и авторитетного руководителя, который в нужный момент поднимет знамя активной борьбы против тирании большевиков в России. Клюев очень интересуется, кто из научных работников томских вузов имеет связь с заграницей...» И даже такое «Клюев отбывает ссылку в Томске за продажу своих сочинений, направленных против советской власти, одному из капиталистических государств. Сочинения Клюева были напечатаны за границей и ему прислали за них 10 тысяч рублей...» В итоге, скорое следствие действительно пришло к выводу, что «Клюев Николай Алексеевич является руководителем и идейным вдохновителем существующей в г. Томске контрреволюционной, монархической организации «Союз спасения России», в которой принимал деятельное участие, группируя вокруг себя контрреволюционно настроенный элемент, репрессированный Соввластью».
Поразительно, отмечал Пичурин, что протокол допроса Клюева, кроме установочных данных, практически ничего не содержит, кроме следующих вопроса и ответа «Горбенко (следователь) «Скажите, за что вы были арестованы в Москве
и осуждены ссылку в Западную Сибирь» Клюев «Проживая в г. Полтаве, я написал поэму «Погорельщина», которая впоследствии была признана кулацкой. Я ее распространял в литературных кругах в Ленинграде и в Москве. По существу эта поэма была с реакционным антисоветским направлением, отражала кулацкую идеологию».
В октябре заседание тройки Управления НКВД Новосибирской области постановило «Клюева Николая Алексеевича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать». 23-25 октября 1937 года (так указано в выписке из дела) постановление тройки было приведено в исполнение.
«Новокрестьянская» поэзия с полным правом может считаться неотъемлемой части творческого наследия русского Серебряного века. Показательно, что крестьянская духовная нива оказалась значительно плодотворнее, чем пролетарская идеологическая почва, на яркие творческие личности.
Термин «новокрестьянские» в современном литературоведении употребляется для того, чтобы отделить представителей новой формации – модернистов, которые обновляли русскую поэзию, опираясь на народное творчество, – от традиционалистов, подражателей и эпигонов поэзии Никитина, Кольцова, Некрасова, штампующих стихотворные зарисовки деревенских пейзажей в лубочно-патриархальном стиле.
Поэты, относившиеся к этой категории, развивали традиции крестьянской поэзии, а не замыкались в них. Поэтизация деревенского быта, нехитрых крестьянских ремесел и сельской природы являлись главными темами их стихов.
Основные черты новокрестьянской поэзии:
Любовь к «малой Родине»;
. следование вековым народным обычаям и нравственным традициям;
. использование религиозной символики, христианских мотивов, языческих верований;
. обращение к фольклорным сюжетам и образам, введение в поэтический обиход народных песен и частушек;
. отрицание «порочной» городской культуры, сопротивление культу машин и железа.
В конце XIX века из среды крестьян не вдвинулось сколько-нибудь крупных поэтов. Однако авторы, пришедшие тогда в литературу, во многом подготовили почву для творчества своих особо даровитых последователей. Идеи старой крестьянской лирики возрождались на ином, более высоком художественном уровне. Тема любви к родной природе, внимание к народному быту и национальному характеру определили стиль и направление поэзии нового времени, а раздумья о смысле человеческого бытия посредством образов народной жизни сделались в этой лирике ведущими.
Следование народнопоэтической традиции было присуще всем новокрестьянским поэтам. Но у каждого из них было и особо острое чувство к малой родине в ее щемящей, уникальной конкретности. Осознание собственной роли в ее судьбе помогало найти свой путь к воспроизведению поэтического духа нации.
На формирование новокрестьянской поэтической школы большое влияние оказало творчество символистов, в первую очередь Блока и Андрея Белого, способствовавшее развитию в поэзии Клюева, Есенина и Клычкова романтических мотивов и литературных приемов, характерных для поэзии модернистов.
Вхождение новокрестьянских поэтов в большую литературу стало заметным событием предреволюционного времени. Ядро нового течения составили наиболее талантливые выходцы из древесной глубинки – Н. Клюев, С. Есенин, С. Кычков, П. Орешин. Вскоре к ним присоединились А. Ширяевец и А. Ганин.
Осенью 1915 г., во многом благодаря усилиям С. Городецкого и писателя А. Ремизова, опекавшим молодых поэтов, была создана литературная группа «Краса»; 25 октября в концертном зале Тенишевского училища в Петрограде состоялся литературно-художественный вечер, где, как писал впоследствии Городецкий, «Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым – страдания...». Там же было объявлено об организации одноименного издательства (оно прекратило существование после выхода первого сборника).
Впрочем, говорить о каком-то коллективном статусе новокрестьянских поэтов было бы неправомерным. И хотя перечисленные авторы входили в группу «Краса», а затем и в литературно-художественное общество «Страда» (1915-1917), ставшее первым объединением поэтов (по определению Есенина) «крестьянской купницы», и пусть некоторые из них участвовали в «Скифах» (альманахе левоэсеровского направления, 1917-1918), но в то же время для большинства «новокрестьян» само слово «коллектив» являлось лишь ненавистным штампом, словесным клише. Их больше связывало личное общение, переписка и общие поэтические акции.
Поэтому о новокрестьянских поэтах, как указывает в своем исследовании С. Семенова, «правильнее было бы говорить как о целой поэтической плеяде, выразившее с учетой индивидуальных мирочувствий иное, чем у пролетарских поэтов, видение устройства народного бытия, его высших ценностей и идеалов – другое ощущение и понимание русской идеи».
У всех поэтических течений начала XX века имелась одна общая черта: их становление и развитие происходило в условиях борьбы и соперничества, словно наличие объекта полемики было обязательным условием существования самого течения. Не минула чаша сия и поэтов «крестьянской купницы». Их идейными противниками являлись так называемые «пролетарские поэты».
Став после революции организатором литературного процесса, партия большевиков стремилась к тому, чтобы творчество поэтов было максимально приближено к массам. Самым важным условием формирования новых литературных произведений, который выдвигался и поддерживался партийной частью, был принцип «одухотворения» революционной борьбы. «Поэты революции являются неумолимыми критиками всего старого и зовут вперед, к борьбе за светлое будущее... Они зорко подмечают все характерные явления современности и рисуют размашистыми, но глубоко правдивыми красками... В их творениях многое еще не отшлифовано до конца, ..но определенное светлое настроение отчетливо выражено с глубоким чувством и своеобразной энергией».
Острота социальных конфликтов, неизбежность столкновения противоборствующих классовых сил стали главными темам пролетарской поэзии, находя выражение в решительном противопоставлении двух враждебных станов, двух миров: «отжившего мира зла и неправды» и «подымающейся молодой Руси». Грозные обличения перерастали в страстные романтические призывы, восклицательные интонации господствовали во многих стихах («Беснуйтесь, тираны!.. », «На улицу!» и т. п.). Специфической чертой пролетарской поэзии (стержневые мотивы труда, борьбы, урбанизм, коллективизм) являлось отражение в стихах текущей борьбы, боевых и политических задач пролетариата.
Пролетарские поэты, отстаивая коллективное, отрицали все индивидуально-человеческое, все то, что делает личность неповторимой, высмеивали такие категории, как душа и т. д. Крестьянские поэты, в отличие от них, видели главную причину зла в отрыве от природных корней, от народного мировосприятия, находящего отражение в быту, самом укладе крестьянской жизни, фольклоре, народных традициях, национальной культуре.

Глубокий интерес к мифу и национальному фольклору становится одной из наиболее характерных черт русской культуры начала XX века. На «путях мифа» в первом десятилетии века пересекаются творческие искания таких несхожих между собой художников слова, как А.Блок, А.Белый, Вяч.Иванов, К.Бальмонт,
С.Городецкий. Символист А.Добролюбов записывает народные песни и сказания Олонецкого края, А.Ремизов в сборнике «Посолонь» (1907) мастерски воспроизводит сказовую народно-эпическую форму повествования, ведя свою повесть «посолонь»: весна, лето, осень, зима. В октябре 1906 г. Блок пишет для первого тома («Народная словесность») редактируемой Аничковым и Овсянико-Куликовским «Истории русской литературы» большую статью «Поэзия народных заговоров и заклинаний», снабдив ее обширной библиографией, в которую включает научные труды А.Н.Афанасьева, И.П.Сахарова, А.Н.Веселовского, Е.В.Аничкова, А.А.Потебни и др.
Ориентация на народно - поэтические формы художественного мышления, стремление познать настоящее сквозь призму национально окрашенной «старины стародавней» приобретает принципиальное значение для русского символизма. Непосредственный живой интерес младших символистов к фольклору отметил Аничков, указавший в одной из работ, что «разработка низших искусств составляет самую основу новых веяний». То же подчеркнул в своей статье Блок: «Вся область народной мапш и обрядности оказалась той рудой, где блещет золото неподдельной поэзии; тем золотом, которое обеспечивает и книжную «бумажную» поэзию - вплоть до наших дней». О том, что интерес к мифам, фольклору был общей ярко выраженной тенденцией русского искусства и литературы начала века, свидетельствует тот факт, что С.А.Венгеров, редактировавший тогда многотомное издание «Русской литературы XX века», предполагал включить в третий том отдельную главу «Художественный фольклоризм и близость к почве», посвященную творчеству Клюева, Ремизова, Городецкого и др. И хотя замысел не осуществился, сам он весьма показателен.
В годы первой мировой войны интерес литературно-художественной интеллигенции к древнему русскому искусству, литературе, поэтическому миру древних народных преданий, славянской мифологии еще более обостряется. В этих условиях творчество новокрестьян и привлекло внимание Сергея Городецкого, к тому времени автора книг «Ярь» (1906), «Перун» (1907), «Дикая воля» (1908), «Русь» (1910), «Ива» (1913). В «Яри» Городецкий попытался возродить мир древней славянской мифологии, выстроив собственную мифопоэтическую картину мира. Ряд известных славянских языческих божеств и персонажей народной демонологии (Ярила, Купало, Барыба, Удрас и др.) он дополняет новыми, им самим придуманными, наполнив мифологические образы осязаемо плотским, конкретно-чувственным содержанием. Стихотворение «Славят Ярилу» Городецкий посвятил Н.Рериху, чьи художественные искания явились созвучными древнерусскому колориту «Яри».
С другой стороны, поэзия самого Городецкого, Вяч.Иванова, проза А.Ремизова, философия и живопись Н.Рериха не могли не привлечь внимания новокрестьян обращением к древнерусской старине, знанием славянской языческой мифологии, чувством народного русского языка, обостренным патриотизмом. «То место свято - святая и крепкая Русь» - рефрен книжки Ремизова «Укрепа» (1916). «Между Клюевым, с одной стороны, - отмечал профессор литературы П.Сакулин в рецензии с примечательным названием «Народный златоцвет», - Блоком, Бальмонтом, Городецким, Брюсовым - с другой, оказался интересный контакт. Красота многолика, но едина».
В октябре-ноябре 1915 г. создается литературно-художественная группа «Краса», которую возглавил Городецкий и куда вошли крестьянские поэты. Участники группы были объединены любовью к русской старине, устной поэзии, народным песенным и былинным образам. Однако «Краса» просуществовала недолго: крестьянские поэты и, прежде всего самый опытный и мудрый из них - Клюев, уже тогда видели неравенство их взаимоотношений с салонными эстетами. Поэтическое кафе акмеистов «Бродячая собака», в котором Клюев бывал неоднократно еще в 1912-1913 п - ., уже с первого посещения навсегда станет для него символом всего враждебного крестьянскому поэту .
Сложившаяся в годы отчетливой дифференциации в литературе группа новокрестьянских поэтов не представляла собой четко выраженного определенного литературного направления со строгой идейно-теоретической программой, каковыми являлись многочисленные литературные группы - их предшественники и современники: крестьянские поэты не выпускали поэтических деклараций и не обосновывали теоретически свои литературно-художественные принципы. Однако несомненно то, что их группу как раз и отличают яркая литературная самобытность и социально-мировоззренческое единство, что дает возможность выделить ее из общего потока неонароднической литературы XX века. Сама крестьянская среда формировала особенности художественного мышления новокрестьян, органически близкого народному. Никогда ранее мир крестьянской жизни, отображенный с учетом местных особенностей быта, говора, фольклорных традиций (Николай Клюев воссоздает этнографический и языковой колорит Заонежья, Сергей Есенин - Рязанщины, Сергей Клычков - Тверской губернии, Александр Ширяевец моделирует Поволжье), не находил столь адекватного выражения в русской литературе: в творчестве новокрестьян со скрупулезной, тщательно выверенной этнографической точностью воссоздаются все приметы этого крестьянского мира.
Деревенская Русь - главный источник поэтического мироощущения крестьянских поэтов. Свою изначальную связь с ней - самими биографическими обстоятельствами своего рождения среди природы, в поле или в лесу - подчеркивал Есенин («Матушка в Купальницу по лесу ходила...»), эту тему продолжает Клычков в стихотворении с фольклорно-песенным зачином «Была над рекою долина...», в котором воспреемниками и первыми няньками новорожденного младенца выступают одушевленные силы природы:
Была над рекою долина В дремучем лесу у села, -
Под вечер, сбирая малину,
На ней меня мать родила...
С обстоятельствами рождения (впрочем, вполне обыкновенными для крестьянских детей) поэты связывали и особенности своего характера. Отсюда окреп в творчестве новокрестьян мотив «возвращения на родину». «Тоскую в городе, вот уже целых три года, по заячьим тропам, по голубам-вербам, по маминой чудотворной прялке», - признается Клюев. В творчестве Клычкова.этот мотив - один из центральных:
На чужбине далеко от родины Вспоминаю я сад свой и дом.
Там сейчас расцветает смородина И под окнами - птичий содом.
Эту пору весеннюю, раннюю Одиноко встречаю вдали.
Ах, прильнуть бы, послухать дыхание, Поглядеть в заревое сияние Милой мати - родимой земли!
(Клычков, Па чужбине далеко от родины...)
Поэтическая практика новокрестьян уже на раннем этапе позволяла выделить такие общие в их творчестве моменты, как поэтизация крестьянского труда («Поклон вам, труд и пот!») и деревенского быта, зоо- и антропоморфизм (антропоморфизация природных явлений составляет одну из характерных особенностей мышления фольклорными категориями), чуткое ощущение своей неразрывной связи с миром живого:
Плач дитяти через поле и реку,
Петушиный крик, как боль, за версты,
И паучью поступь, как тоску,
Слышу я сквозь наросты коросты.
(Клюев, Плач дитяти через поле и реку...)
Весьма сложным и к настоящему времени далеко не изученным является вопрос о нравственно-религиозных исканиях новокрестьян. «Огонь религиозного сознания», питающий творчество Клюева, был отмечен еще Брюсовым в предисловии к первому сборнику поэта «Сосен перезвон». Огромное влияние на формирование клюевского творчества оказало хлыстовство, в религиозных обрядах которого - сложный сплав элементов христианской религии, элементов дохристианского русского язычества и дионисийского начала язычества античного с элементами тайных, не изученных верований.
Что касается отношения Есенина к религии, то, хотя он и вспоминает в автобиографии (1923): «В Бога верил мало, в церковь ходить не любил» и признается в другом ее варианте (октябрь, 1025): «От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался...», - несомненно, традиции православной христианской культуры оказали определенное влияние на формирование его юношеского мировоззрения.
Как свидетельствует товарищ поэта В.Чернявский, Библия была настольной книгой Есенина, тщательнейшим образом вновь и вновь им прочитываемой, испещренной карандашными пометами, потрепанной от постоянного к ней обращения, - ее запомнили и описали в своих воспоминаниях многие из тех, кто близко встречался с поэтом. Среди множества выделенных мест в есенинском экземпляре Библии был отчеркнутый вертикальной карандашной линией первый абзац пятой главы Книги Екклесиаста: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов».
В годы революции и первые послереволюционные годы, пересматривая свое отношение к религии («Я кричу тебе: «К черту старое!»,/ Непокорный, разбойный сын» - «Пантократор»), Есенин выводил особенности той функции, которую выполняла религиозная символика в его творчестве, не столько из христианской, столько из древнеславянской языческой религии.
Есенин - особенно в пору его принадлежности к «Ордену имажинистов» - не однажды еще воскликнет в пылу полемики: «Лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная раздирающая душу на российских полях песня грязных больных и искалеченных людей про «Лазаря». Убирайтесь к чертовой матери с вашим Богом и с вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры...». Однако пронзительная тоска по утраченному («Что-то всеми навеки утрачено...») станет все чаще и чаще прорываться у него:
Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.
(Мне осталась одна забава...)
Воссоздавая в своих произведениях колорит бытовых и обрядовых символов крестьянской Руси, Есенин, с одной стороны, как христианин -
Я поверил от рожденья В Богородицын покров (Чую Радуницу Божью...)
Свет от розовой иконы На златых моих ресницах (Колокольчик среброзоониый...) испытывает томление по высшему смыслу бытия, по «прекрасной, но нездешней/ Неразгаданной земле» («Не напрасно дули ветры...»), его глаза «в иную землю влюблены» («Опять раскинулся узорно...»), а «душа грустит о небесах,/ Она нездешних нив жилица» (одноименное стихотворение). С другой стороны, в творчестве Есенина и других новокрестьян отчетливо проступали языческие мотивы, которые можно объяснить тем, что этические, эстетические, религиозные и фольклорно-мифологические представления русского крестьянина, заключенные в единую стройную систему, имели два различных источника: кроме христианской религии, еще и древнеславянское язычество, насчитывающее несколько тысячелетий.
Неукротимое языческое жизнелюбие - отличительная черта лирического героя Ширяевца:
Хор славит вседержителя владыку,
Акафисты, каноны, тропари,
Но слышу я Купальской ночи вс клики,
А в алтаре - пляс игрищной зари!
(Хор славит вседержителя владыку...)
Обильно используя в своих произведениях религиозную символику, архаическую лекажу, новокрестьянские поэты на пути своих идейно-эстетических поисков сближались с определенными художественными исканиями в русском искусстве конца XIX - начала XX вв. Прежде всего это творчество В.М.Васнецова, впервые в русском искусстве сделавшего попытку найти живописноизобразительные эквиваленты традиционным народно-поэтическим образам былинного сказа. Это полотна В.И.Сурикова, воскрешающие легендарно-героические страницы национальной истории, особенно его творчество последнего периода, когда оно смыкается с той, восходящей к полотнам Васнецова, линией в русском искусстве, когда сюжеты и образы черпаются не прямо из действительной истории, а из истории уже переработанной, поэтически украшенной народной фантазией. Это «нестеровская» тема, не конкретизированная в историческом времени, - монашеская Русь, представлявшаяся художнику вневременным идеалом изначальной слитности человеческого существования с жизнью природы - природы первозданно-девственной, не задыхающейся под игом цивилизации, удаленной от губительного дыхания современного «железного» города.
Новокрестьянские поэты первыми в отечественной литературе возвели деревенский быт на недосягаемый прежде уровень философского осмысления общенациональных основ бытия, а простую деревенскую избу - в высшую степень красоты и гармонии:
Беседная изба - подобие Вселенной:
В ней шолом - небеса, полати - Млечный путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной Под веретенный клир усладно отдохнуть.
(Где пахнет кумачом - там бабьи посиделки...) опоэтизировали ее живую душу:
Изба-богатырица,
Кокошник вырезной,
Оконце, как глазница,
Подведено сурьмой.
(Клюев, Изба-богатырица...)
Поэтом «золотой бревенчатой избы» провозгласил себя Есенин («Спит ковыль. Равнина дорогая...»). Поэтизирует крестьянскую избу в своих «Домашних песнях» Клычков. Клюев в цикле «Поэту Сергею Есенину» настойчиво напоминает «младшему брату» его истоки: «Изба - питательница слов -/ Тебя взрастила не напрасно...».
Для крестьянина-землепашца и крестьянского поэта такие понятия, как мать-землица, изба, хозяйство - суть понятия одного этического и эстетического ряда, одного нравственного корня, а высшая нравственная ценность жизни - физический труд, неторопливое, естественное течение нехитрой деревенской жизни. В стихотворении «Дедова пахота» Клычков, в соответствии с нормами народной морали, утверждает, что и многие болезни проистекают от безделья, лености, что здоровый образ жизни тесно связан с физическим трудом. Клычковский дед после вынужденного зимнего безделья -
Помолился, сиял одежу,
Размотал онучи с ног.
Огорбел он, зиму лежа,
Поясницей занемог.
Исконно народные представления о физическом труде как основе основ крестьянской жизни утверждаются в известном стихотворении Есенина «Я иду долиной...»:
К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу -
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?
Для Клюева:
Радость видеть первый стог,
Первый сноп с родной полоски,
Есть отжиночный пирог На меже, в тени березки...
(Клюев, Радость видеть первый стог...)
Для Клычкова и его персонажей, ощущающих себя частицей единой Матери-природы, находящихся с ней в гармоническом родстве, и смерть - нечто совершенно не страшное и естественное, как смена, например, времен года или таянье «изморози весной», как определил смерть Клюев. Умереть, по Клычкову, - значит «уйти в нежить, как корни в землю», и смерть в его творчестве представляется не литературно-традиционным образом отвратительной старухи с клюкой, а привлекательной труженицы-крестьянки:
Уставши от дневных хлопот,
Как хорошо полой рубашки Смахнуть трудолюбивый пот,
Подвинуться поближе к чашке,
Жевать с серьезностью кусок,
Тянуть большою ложкой тюрю,
Спокойно слушая басок Сбирающейся на ночь бури...
Как хорошо, когда в семье,
Где сын жених, а дочь невеста,
Уж не хватает на скамье Под старою божницей места...
Тогда, избыв судьбу, как все,
Не в диво встретить смерть под вечер,
Как жницу в молодом овсе С серпом, закинутом на плечи.
(Клычков, Уставши от дневных хлопот...)
Типологическая общность философско-эстетической концепции мира новокрестьянских поэтов проявляется в решении ими темы природы. Одной из важнейших особенностей их творчества является то, что тема природы в их произведениях несет важнейшую не только смысловую, но концептуальную нагрузку, раскрываясь через универсальную многоаспектную антитезу «природа-цивилизация» с ее многочисленными конкретными оппозициями: «народ - интеллигенция», «деревня - город», «природный человек - горожанин», «патриархальное прошлое - современность», «земля - железо», «чувство - рассудок» и т.д.
Примечательно, что в есенинском творчестве отсутствуют городские пейзажи. Осколки их - «скелеты домов», «продрогший фонарь», «московские изогнутые улицы» - единичны, случайны и не складываются в цельную картину. «Московский озорной гуляка», вдоль и поперек исходивший «весь тверской околоток», Есенин даже не находит слов для описания месяца на городском небосклоне: «А когда ночью светит месяц,/ Когда светит... черт знает как!» («Да! Теперь решено. Без возврата...»).
Последовательным антиурбанистом выступает в своем творчестве Ширяевец:
Я - в Жигулях, в Мордовии, на Вытегре!
Я слушаю былинные ручьи!
Пусть города найлучшие кондитеры
Мне обливают в сахар куличи -
Я не останусь в логовище каменном!
Мне холодно в жару его дворцов!
В поля! на Брынь! к урочищам охаянным!
К сказаньям дедов - мудрых простецов!
(Ширяевец, Я - в Жигулях, в Мордовии, на Вытегре!..)
В своем многостраничном трактате «Каменно-Железное Чудище» (т.е. Город), законченном к 1920 г. и до сих пор не опубликованном, Ширяевец наиболее полно и всесторонне выразил целевую установку новокрестьянской поэзии: возвратить литературу «к чудотворным ключам Матери-Земли». Начинается трактат легендой-апокрифом о бесовском происхождении Города, сменяемой затем сказкой-аллегорией о юном Городке (затем - Городе), сыне Глупой Поселянки и продувного Человека, в угоду дьяволу неукоснительно исполняющем предсмертный наказ родителя «приумножай!», так что дьявол «пляшет и хрюкает на радостях, насмехаясь над опоганенной землей».
Бесовское же происхождение Города подчеркивает Клюев: Город-дьявол копытами бил,
Устрашая нас каменным зевом...
(Из подвалов, из темных углов...), а Клычков в романе «Сахарный немец», продолжая ту же мысль, утверждает тупиковость, бесперспективность пути, которым идет Город, - в нем нет места Мечте:
«Город, город!
Под тобой и земля не похожа на землю... Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти...
Оттого выросли на ней каменные корабли... оттого-то сложили каменные корабли свои железные паруса, красные, зеленые, серебристо-белые крыши, и они теперь, когда льет на них прозрачная осень стынь и лазурь, похожи издали на бесконечное море висящих в воздухе сложенных крыл, как складывают их перелетные птицы, чтобы опуститься на землю...
Не взмахнуть этим крыльям с земли!...
Не подняться с земли этим птицам!..»
Отчетливые антиурбанистические мотивы - и в клюевском идеале Красоты, берущем начало в народном искусстве, выдвигаемом поэтом в качестве связующего звена между Прошлым и Будущим. В настоящем, в реалиях железного века, Красота растоптана и поругана («Свершилась смертельная кража,/ Развенчана Мать-Красота!»), и потому звенья Прошлого и Будущего распаялись. Но спустя срок, пророчески указывает Клюев, Россия возродится: она не только обретет вновь утраченную было народную память, но к ней с надеждой обратятся и взоры Запада:
В девяносто девятое лето Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы Ослепительных вещих строк.
Захлестнет певучая пена Холмогорье и Целебей,
Решетом наловится Вена Серебристых слов-карасей.
(Я зншо, родятся песни...)
Именно новокрестьянские поэты в начале XX века громко провозгласили: природа сама по себе - величайшая эстетическая ценность. И если в стихотворениях клюевского сборника «Львиный хлеб» наступление «железа» на живую природу - еще не ставшее страшной реальностью предощущение, предчувствие («Зачураться бы от наслышки/ Про железный неугомон!»), - то в образах «Деревни», «Погорелыцины», «Песни о Великой Матери» - уже трагическая для крестьянских поэтов реальность. Однако в подходе к этой теме отчетливо видна дифференцированность их творчества. Есенин и Орешин, хотя и непросто, мучительно, через боль и кровь, но готовы увидеть будущее России, говоря есенинскими словами, «через каменное и стальное». Для Клюева, Клычкова, Ширяевца, находившихся во власти идей «мужицкого рая», идею его вполне осуществляло патриархальное прошлое, русская седая старина с ее сказками, легендами, поверьями. «Не люблю я современности окаянной, уничтожающей сказку, - признавался Ши- ряевец в письме Ходасевичу (1917), - а без сказки какое житье на свете?». Для Клюева уничтожение сказки, легенды, разрушение сонма мифологических персонажей - невосполнимая потеря: Как белица, платок по брови,
Туда, где лесная мгла,
От полавочных изголовий Неслышно сказка унта.
Домовые, нежити, мавки -
Только сор, заскорузлый прах...
(Деревня)
Неприятие Ширяевцем современной ему действительности с особой силой проявилось в двух стихотворениях 1920 г.: «Не надо мной летят стальные птицы...» и «Волге». В первом Ширяевец вновь и вновь подчеркивает свою приверженность патриархальной старине:
Не надо мной летят стальные птицы,
Синиц с Изборска мне полет милей!..
Я наяву, да, это мне не снится! -
Плыву в шелках червленных кораблей.
Вокзалов нет!.. Железных, хриплых ревов!
Нет паровозов черных! - Я не ваш!
Есть вешний шум в сияющих дубровах,
Запев Садко, звон богатырских чаш!
во втором - противопоставляет прошлому современность в самых экологически неприглядных ее проявлениях.
О том, что хищническое истребление природы ведет к духовному оскудению человека, потер» им невосполнимых нравственных ценностей, 1феду1феждает в своих книгах Клычков: «Не за горгши пори, когда человек в лесу всех зверэей передушит, из р»к выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги - подрежет пилой-верезгой. Тогда-то отвернется Бог от опустелой земли и от опустелой души человечьей, а железный чертг, который только ждет этого и никак дождаться не может, привер- тит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что черт в духовных делах порядочный слесарь... С этой-то гайкой заместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить и жить до скончания века...» («Чертухин- ский балакирь»).
Свои духовные ценности, идеал изначальной гармонии с миром природы новокрестьянские поэты отстаивали в полемике с пролеткультовскими теориями технизации и машинизации мира. В то время, когда представители железного века в литературе отринули все «старое» («Мы - разносчики новой веры,/ Красоте задающей железный тон./ Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,/ В небеса шаржхаем железобетон»), новокрестьяне, видевшие главную причину зла в отрыве от прирюдных корней, от народного мировосприятия, находящего отражение в быту, самом укладе кртестьянской жизни, фольклор», нарюдных традициях, национальной культур» («сирютинками» в стихотвор»нии Клюева «На помин олонецким бабам...» простодушно-жалостливо названы поэты, «позабывшие отчий дом»), - встали на защиту этого «старого».
Если пролетарюкие поэты декларировали в стихотворении «Мы»: «Мы все возьмем, мы все познаем,/ Прюнижем глубину до дна...», крестьянские поэты утверждали прютивоположное: «Все познать, ничего не взять/ Пришел в этот мир поэт» (Есенин, «Кобыльи корабли»). Если «разносчики новой веры», отстаивая коллективное, отрицали индивидуально-человеческое, все то, что делает личность неповторимой, высмеивали такие категории, как
«душа», «сердце», - все то, без чего невозможно представить творчество новокрестьян, - последние были твердо убеждены в том, что будущее - за их поэзией. В современности конфликт «природы» и «железа» закончился победой «железа»: в заключительном стихотворении «Поле, усеянное костями...» сборника «Львиный хлеб» Клюев дает страшную, воистину апокалипсическую панораму «железного века», неоднократно определяя его через эпитет «безликое». Воспетые крестьянскими поэтами «голубые поля» России сейчас усеяны «...костями,/ Черепами с беззубою зевотой», и над ними, «...гремящий маховиками,/ Безыменный и безликий кто-то»: Над мертвою степью безликое что-то Родило безумие, тьму, пустоту...
Мечтая о времени, при котором «не будет песен про молот, про невидящий маховик» и станет «горн потухнувшего ада - полем ораным мирским», Клюев высказал свое сокровенное, пророческое:
Грянет час, и к мужицкой лире Припадут пролетарские дети.
К началу XX века Россия подошла страной крестьянского земледелия, основанного на более чем тысячелетней традиционной культуре, отшлифованной в ее духовно-нравственном содержании до совершенства. В 20-е годы уклад русской крестьянской жизни, бесконечно дорогой крестьянским поэтам, на их глазах стал рушиться. Болью за скудеющие истоки жизни сочатся написанные в 20-30-е гг. романы Клычкова, произведения Клюева, письма Есенина, внимательное прочтение которых еще предстоит исследователям.
Революция обещала осуществить вековую мечту крестьян: дать им землю. Крестьянская община, в которой поэты видели основу основ гармонического бытия, на короткое время была реанимирована, по деревням шумели крестьянские сходы:
Вот вижу я: воскресные сельчане У волости, как в церковь, собрались. Корявыми, немытыми речами Они свою обсуживают «жись».
(Есенин, Русь советская.)
Однако уже летом 1918 г. начинается планомерное наступление по разрушению основ крестьянской общины, в деревню направляются продотряды, а с начала 1919 г. - вводится система продразверстки. Миллионы и миллионы крестьян погибают в результате военных действий, голода и эпидемий. Начинается прямой террор против крестьянства - политика раскрестьянивания, со временем принесшая страшные плоды: вековечные устои русского крестьянского хозяйствования были разрушены. Крестьяне яростно восставали против непомерных поборов - Вешенское восстание на Дону, восстание тамбовских и воронежских крестьян, сотни им подобных, но меньших масштабами крестьянских выступлений. Страна проходила очередную трагическую полосу своей истории, и письма Есенина этого времени пронизаны мучительными, напряженными поисками смысла настоящего, происходящего на глазах. Если ранее, в 1918 г., поэт писал: «Мы верим, что чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувствование новой жизни», то в письме Е.Лившиц от 8 июня 1920 г. - прямо противоположное впечатление от происходящего в «новой» деревне: «Дома мне, несмотря на то, что я не был там три года, очень не понравилось, причин очень много, но о них в письмах говорить неудобно». «Ведь оно теперь не такое. Ужас как непохоже», - передает он Г.Бениславской в письме от 15 июля 1924 г. впечатление от посещения родного села. Маленький жеребенок, бегущий наперегонки с поездом, увиденный в августе 1920 г. из окна поезда Кисловодск-Баку и воспетый затем в «Сорокоусте», для Есенина становится «дорогим вымирающим образом деревни».
М.Бабенчиков, встречавшийся с Елениным в начале 20-х годов, отмечает его «затаенную тревогу»: «Какая-то неотступная мысль сверлила есенинский мозг.., заставляя его постоянно возвращаться к одной и той же теме: «- Деревня, деревня... Деревня - жизнь, а город...». И, внезапно обрывая свою мысль: «- Тяжел мне этот разговор. Давит он меня». Тот же мемуарист приводит относящийся к зиме 1922 г. многозначащий эпизод в особняке А.Дункан на Пречистенке, когда «Еленин, сидя на корточках, рассеянно шевелил с трудом догоравшие головни, а затем, угрюмо упершись невидящими глазами в одну точку, тихо начал: «Был в деревне. Все рушится... Надо самому быть оттуда, чтобы понять... Конец всему».
«Конец всему» - то есть всем надеждам на обновление жиз ни, мечтам о счастливом будущем русского крестьянина. Не об этой ли доверчивости русского мужика с горечью и болью писал Г.И.Успенский, высоко ценимый Есениным, предупреждая о неизбежном трагическом и страшном разочаровании в очередной «волшебной сказке»? «Разбитым корытом, - напоминал писатель, - ...с незапамятных времен и начинается и оканчивается всякая русская волшебная сказка; начинаясь в тоске и страдании, продолжаясь мечтаниями о светлом привольном житье, она после целого ряда бесчисленных мучений, перенесенных искателем приволья, приводит его опять-таки к горю и страданию, и перед ним... «опять разбитое корыто».
В результате социальных экспериментов на глазах крестьянских поэтов, вовлеченных в трагический конфликт с эпохой, началось невиданное крушение самого для них дорогого - традиционной крестьянской культуры, народных основ жизни и национального сознания.
Крестьянские поэты получают ярлык «кулацких», в то время как одним из главных лозунгов жизни страны становится лозунг «ликвидация кулачества как класса». Оболганные и оклеветанные, поэты-сопротивленцы продолжают работать, и неслучайно одно из центральных стихотворений Клюева 1932 г. с его прозрачной метафорической символикой, адресованное руководителям литературной жизни страны, носит название «Клеветникам искусства»:
Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копьгга,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса И не пускали в луг, где пьяная роса Свежила б лебедю надломленные крылья...
Новокрестьянская литература - единственное направление в отечественной литературе XX века, все без исключения представители которого в своих произведениях бесстрашно вступили в смертную борьбу с «железным веком» и были уничтожены в неравной этой борьбе. В период с 1924 по 1938 г. все они - прямо или косвенно - становятся жертвами Системы: в 1924 г. - Александр Ширяевец, в 1925-м - Сергей Есенин и Алексей Ганин, в 1937-м - Николай Клюев и молодые поэты Иван Приблудный и Павел Васильев, в 1938-м - Сергей Клычков и Петр Орешин.
На излете XX века суждено по-новому вчитаться в произведения новокрестьянских писателей - продолжающие традиции русской литературы серебряного века, они противостоят веку железному: в них заложены истинные духовные ценности и подлинно высокая нравственность, в них веяние духа высокой свободы - от власти, от догмы, в них утверждается бережное отношение к человеческой личности, отстаивается связь с национальными истоками, народным искусством как единственно плодотворный путь творческой эволюции художника.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Пономарева Т. А. Новокрестьянская проза 1920-х годов: В 2 ч. Череповец, 2005. Ч. 1. Философские и художественные изыскания Н. Клюева, А. Ганина, П. Карпова. Ч. 2. «Круглый мир» Сергея Клычкова.
Монография посвящена прозе Н. Клюева, С. Клычкова, П. Карпова, А. Ганина 1920-х гг., но широко представляет истоки творчества крестьянских писателей в литературе Серебряного века. Новокрестьянская литература осмыслена в историческом, национальном и религиознофилософском аспектах. Творчество писателей-новокрестьян рассматривается в соотнесенности с мифопоэтикой, фольклором, древнерусской словесностью и литературой первой трети XX в.
Савченко I К. Есенин и русская литература XX века. Влияния. Взаимовлияния. Литературно-творческие связи. М.: Русски м1ръ, 2014.
Книга посвящена проблеме «Есенин и русская литература XX века» и является первым монографическим исследованием подобного рода; некоторые архивные документы и материалы впервые вводятся в литературоведческий оборот. В частности, подробно исследуются литературно-творческие связи Есенина с крестьянскими писателями: в главах «“Никто так духовно не привлекал Есенина”: Сергей Есенин и Александр Ширяевец» и «“Этот - бешено даровит!”: Сергей Есенин и Максим Горький». Подробно исследуется тема «Горький и новокрестьянские писатели в их отношении к “избяной Руси”».
Солнцева Н. М. Китежский павлин: Филологическая проза. Документы. Факты. Версии. М. : Скифы, 1992.
Книга содержит очерки филологический прозы, посвященные творчеству крестьянских писателей. Особенно подробно анализируется творчество С. Клычкова, Н. Клюева, П. Карпова, П. Васильева. Широкое использование документальных материалов придает исследованию глубоко научный характер, а жанр филологической прозы, в традициях которого написана книга, - характер увлекательного чтения. Автор предлагает читателю не только литературные факты, но также свои версии и гипотезы, связанные с творчеством новокрестьянских писателей.
- Очевидно, внутренней полемикой с акмеистским «Цехом поэтов»продиктована и утрирована стилизованная форма - в виде смиреннойчелобитной - дарстветюй надписи Клюева Н.Гумилеву на сборнике «Лесные были»: «Николаю свет Степановичу Гумилеву от велика НовогородаОбонежеския пятины погоста Пятницы Парасковии у садища Соловьевагора песельник Николашка по наливке Клюев славу поет учесглив поклонвоздает день постный память святого пророка Иоиля лето от рожества Богаслова тысяща девятьсот тринадцатое».
- В атом плане неслучаен и характер выбранного одним из пролетарских поэтов литературного псевдонима - Безыменский.
Ей приходилось выживать в новых условиях, в повороте на новую культуру пролетариата. Представители: Николай Клюев, Сергей Клычков, Сергей Есенин, Пётр Орешин.
Их начинают вытеснять Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ, Троцкий.
Николай Клюев поначалу свято верил в идею обновления мира. Затем - аресты. Заканчивает жизнь вдали от Петербурга, в застенках НКВД. Обращается к жанру поэмы.
1919 г. - двухтомник стихов «Песнослов», затем - «Медный кит», 1920 г. - «Избяные песни».
Верил в коммунизм, но не в коммунизм большевиков, а в коммунизм как особое состояние крестьянского духа. 1928 г. - последний сборник «Изба и Коля». Религиозно-патриархальные мотивы, обращение к фольклору. В. Маяковский : он весь остался в дореволюционном прошлом. Основная тема - тема гибели крестьянского мира (одна из поэм - «Погорельщина»). Звучат и пророческие строки, и строки о том, что жертвы, принесённые революции, оказались бесплодными.
Междоусобная бойня (Первая мировая война) перекочёвывает и в современный мир: поле, усеянное костями и черепами. Мотив силы, которая губит всё живое, всё земное. А идеал - природа, привычный пейзаж крестьянской жизни.
Поэма «Погорельщина» - картина гибели Руси, гибели великих сил, мира России.
Образ избы.
Параллель из второй половины ХХ века - Николай Рубцов.
«Рождество избы» - отражение творческого сознания крестьянского поэта. Образ деревенского дома в художественно-философском осмыслении - некая модель мироздания. Рождество избы - священный акт, таинство. Строитель - священник, тайновидец, умеющий читать письмена по щепам.
Бесприютность - страшная беда, признак неудавшейся судьбы.
Крестьянская советская поэзия (новые течения в крестьянской поэзии): Михаил Исаковский. Александр Твардовский, Алексей Сурков, Николай Роленков, Александр Прокопьев, Александр Щипачёв и др. Они отражают жизнь деревни. Новый взгляд (с позиции нового времени): возрождение деревни. С предшественниками сближал и лирический голос.
Михаил Васильевич Исаковский (1900-1972). Родился в смоленской бедной крестьянской семье. Первые стихи - в 1914-1915 годах. После Октября вступает в партию большевиков, редактирует смоленскую газету «Рабочий путь». 4 книжки стихов. Сам считает, что это пока не поэзия, а начало самостоятельного поэтического пути связывает со сборником 1927 года («Провода в соломе»). Изменения к лучшему: электричество, изба-читальня, ликбез. Выступал с соратниками против упрощения комсомольской поэзии (схематизма). Надо учиться у классиков, нельзя исключать личностный момент из жизни.
Учится у Есенина, но ведёт с ним полемику, не принимая упаднические настроения. Часто называет стихи так же, как Есенин, но даёт другую картину («Письмо к матери» и др.).
Поэма «Четыре желания» (бесталанный, несчастный батрак Степан Тимофеевич. У Твардовского - «Страна Муравия» (батраки тоже ищут счастливую жизнь). Практически по Некрасову.
Формирование понятий малая и большая родина .
Укрупнение жанра. В. Маяковский «Хорошо», «Владимир Ильич Ленин», С. Есенин «Анна Снегина», «Песнь о великом походе», Б. Пастернак «1905 год», «Лейтенант Шмидт», Н. Асеев «Семён Родов».
Понятие «крестьянская поэзия» вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Единой творческой школы с единой идейной и поэтической программой они не образовали. Как жанр «крестьянская поэзия» сформировалась в середине XIX века. Ее крупнейшими представителями были Алексей Васильевич Кольцов, Иван Саввич Никитин и Иван Захарович Суриков. Они писали о труде и быте крестьянина, о драматических и трагических коллизиях его жизни. В их творчестве отразилась и радость слияния тружеников с миром природы, и чувство неприязни к жизни душного, шумного, чуждого живой природе города.
Крестьянская поэзия всегда имела успех у читающей публики. При издании стихотворения обычно указывалось происхождение авторов. А всплеск интереса к народной жизни тут же отзывался поиском самородков. Собственно, слово это, «самородок», было введено в литературный обиход как бы для оправдания поэтов из народа, которых еще называли «поэты-самоучки».
В начале ХХ века «крестьянские поэты» объединились в Суриковский литературно-музыкальный кружок, который издавал сборники, альманахи. Важную роль в нем сыграли Спиридон Дмитриевич Дрожжин, Филипп Степанович Шкулев, и Егор Ефимович Нечаев. В 1910-е годы в литературу входит новое поколение поэтов из крестьянской среды. В печати появляются сборники Сергея Антоновича Клычкова (Лешенкова), Николая Алексеевича Клюева, первые произведения Александра Васильевича Ширяевцева (Абрамова) и Петра Васильевича Орешина. В 1916 году выходит сборник стихов Есенина «Радуница».
В ту эпоху «русский селянин» – разве что ресторанная экзотика или артистическая поза. Ее с гордостью принял Клюев, проклинавший «дворянское вездесущие» в своих письмах к Блоку; ее примерил щеголем молодой Есенин, ряженый под пастушка, в голубой шелковой рубахе навыпуск, с серебряным поясом, бархатных штанах и высоких сафьяновых сапогах. Но они были сочувственно встречены критикой как посланцы в литературу русской деревни, выразители ее поэтического самосознания. Впоследствии советская критика заклеймила «крестьянскую поэзию» как «кулацкую».
Традиционный взгляд позднейшей критики на «крестьянскую поэзию» хорошо иллюстрирует характеристика, данная «Литературной энциклопедией» наиболее яркому представителю этого направления – Есенину: «Представитель деклассирующихся групп деревенского зажиточного крестьянства, кулачества… Есенин идет от вещной конкретности натурального хозяйства, на почве которого он вырос, от антропоморфизма и зооморфизма примитивной крестьянской психологии. Религиозность, окрашивающая многие из его произведений, также близка примитивно-конкретной религиозности зажиточного крестьянства».
«Крестьянская поэзия» пришла в русскую литературу на сломе веков. То было время предчувствия социального распада и полной анархии смыслов в искусстве, поэтому в творчестве «крестьянских поэтов» можно наблюдать некий дуализм. Это мучительное желание перейти в другую жизнь, стать тем, кем не был рожден, вечно чувствуя себя поэтому уязвленным. Так страдали все они, поэтому бежали из любимых деревень в города, которые ненавидели. Но знание крестьянского быта, устного поэтического творчества народа, глубоко национальное ощущение близости к родной природе составили сильную сторону лирики «крестьянских поэтов».